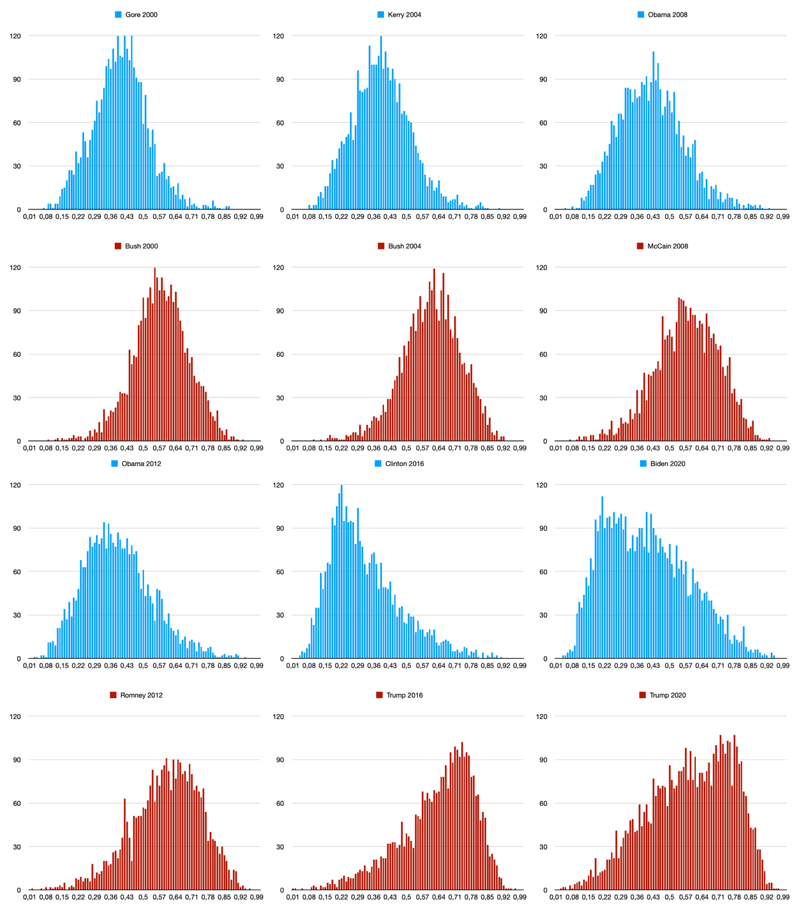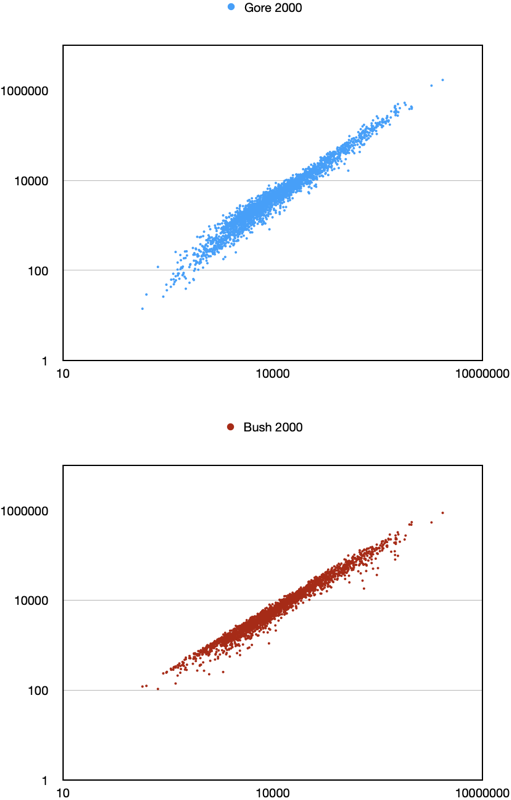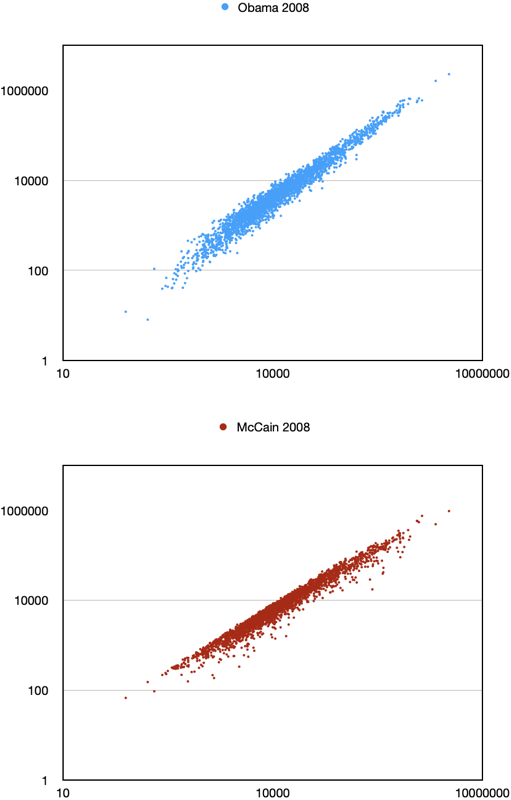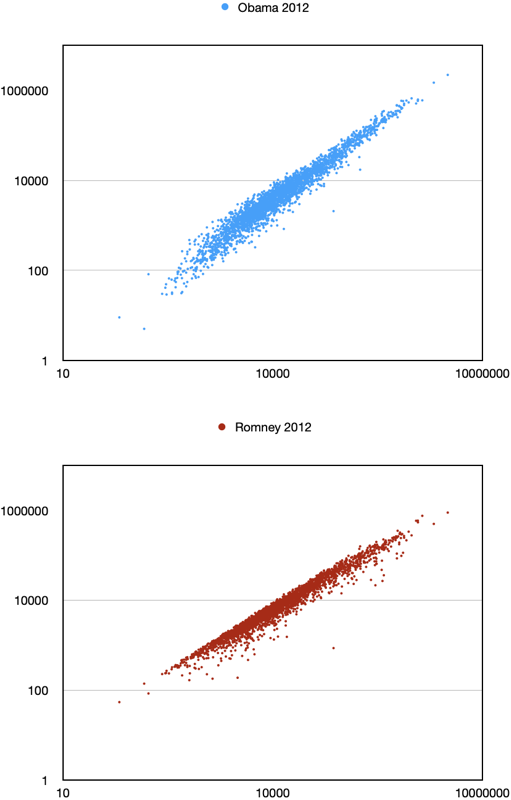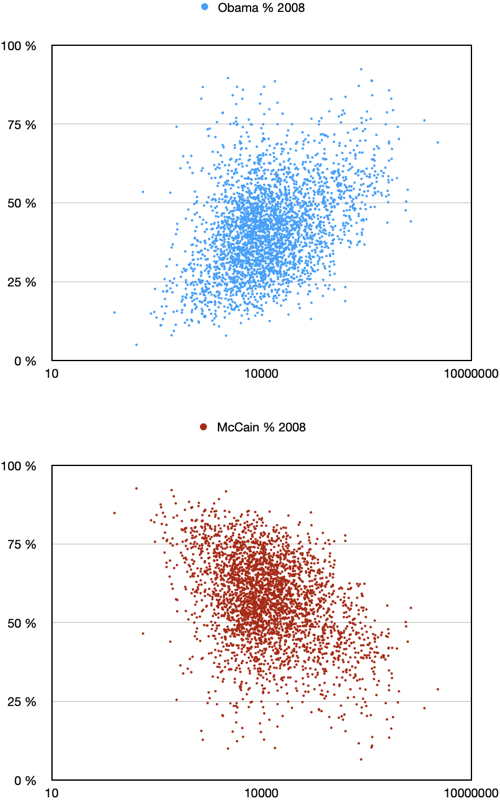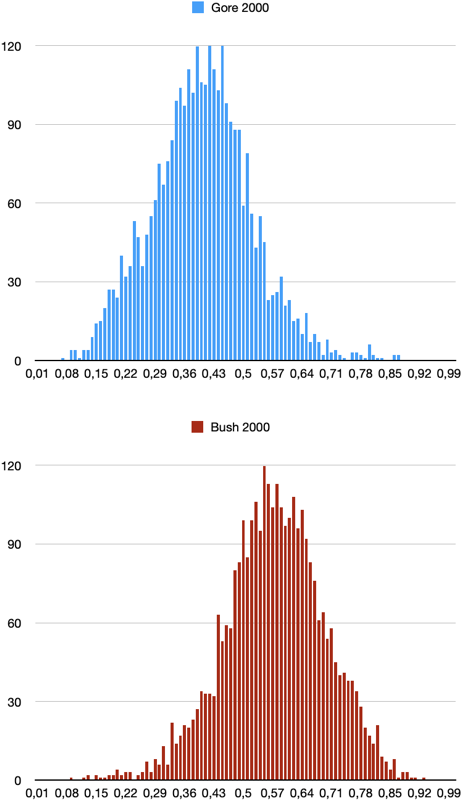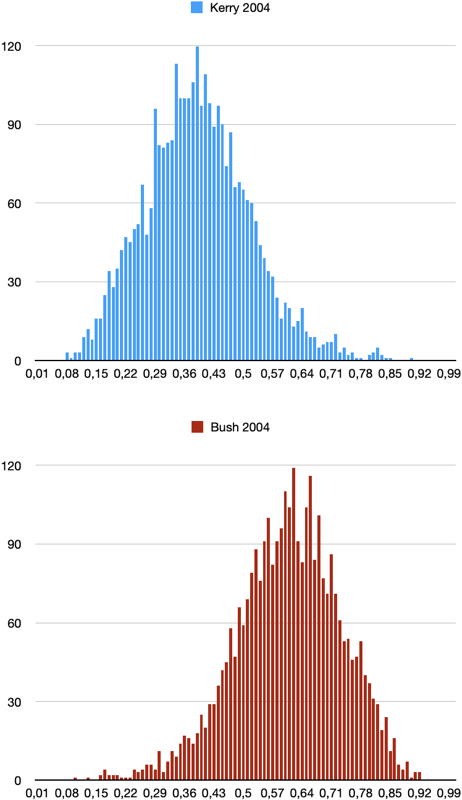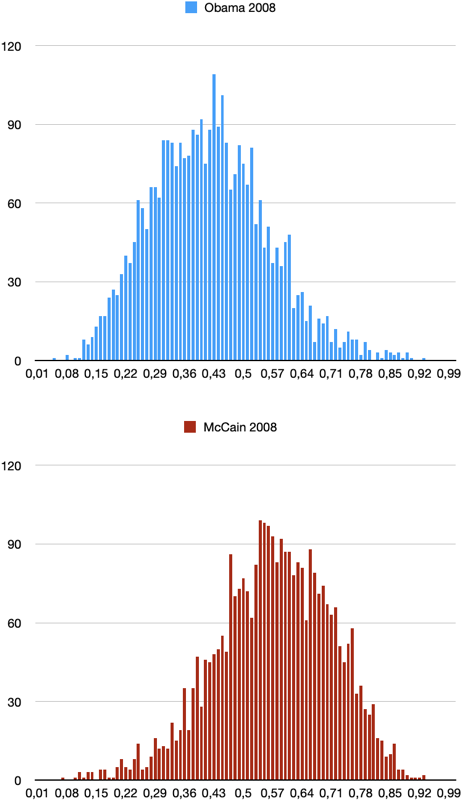Мне всегда было трудно запомнить дни рождения даже ближайших родственников. Память, полная других дат и чисел, наотрез отказывалась хранить эту информацию. Потом, начав жить самостоятельно, совершив над собой большое усилие, я научился держать в голове хотя бы месяц рождения нескольких человек, не более полудюжины. Иногда звонил на несколько недель раньше, поздравлял, но родственники быстро отучили от этого: так не принято. Тогда я стал звонить, чтобы точно получалось позже, иногда даже в начале следующего месяца, вспоминая, впрочем, об этом тоже не каждый год. Тетя, моя вторая мама, тоже мне звонила по определенным датам. Говорила: «Мы сегодня собираемся вспомнить твою бабушку. Придешь?». Это всегда было неожиданно, хотя такие собрания приходились каждый год на один и тот же день. Теперь за связи с родней и за соблюдение социальных конвенций, за регулярные звонки, дежурные поздравления, обмен фотографиями детей и дачных цветов у меня отвечает жена. Жить стало намного проще.
Конечно, я помнил о том, что столетний юбилей Сахарова будет в этом году где-то в мае, но сегодня он застиг меня врасплох, как это всегда бывало с днями рождения близких людей. Но теперь о нем напомнила не тетя и не жена. Напомнил интернет и постыдные действия московских властей накануне.
Наверное, нет в моей жизни человека, который бы на всем ее протяжении был таким абсолютным идеалом, как Андрей Дмитриевич. В детской галерее величайших людей всех времен он стоял в одном ряду с Эйнштейном и Ландау, немного опережая Хокинга. Я еще не знал тогда, что Нобелевскую премию Сахаров получил не за физику, думал, что за токамак или хотя бы за водородную бомбу. Юношеская переоценка ценностей, радикальное прощание с идеалами, поиски новых, его не тронули. И теперь, после разочарований зрелости, пожалуй только он один остается для меня безусловном образцом в нравственном, человеческом смысле.
Еще я знал, что Академик (все остальные были академиками с маленькой буквы, только он с прописной) живет в Горьком, как и мой дядя. Это был не чужой и не далекий город. Я себе нафантазировал, что дядя привозил от Сахарова весточки, когда бывал у нас. Дядя вел с мамой долгие ночные разговоры на кухне, заполненной густым табачным дымом. Я читал взрослым лекции об опасности и особенном вреде пассивного курения для детей, но после все равно отказывался уходить спать. Слушал эти разговоры, очень важные и серьезные, хотя мало что понимал и уже ничего из них не помню.
Потом пришла эпоха съездов народных депутатов, бесконечная говорильня, телевизор не выключался. Сахаров все время был у нас дома. Он был как родной дедушка. Своего дедушку, Бориса Михайловича, я не застал, только слышал о нем. Дед присутствовал незримо, как объект поклонения, далекий предок, живущий в многочисленных родственниках, его детях и внуках, постоянно возвращавшихся в родное гнездо в Барашевском переулке. А Андрей Дмитриевич был тут, рядом. Живой. Голос его можно было услышать. Я не понимал, о чем он говорил, потому что говорил он не о физике и термояде, о чем-то другом, что мне было неинтересно. На столе в кухне лежал «Огонек» с его фотографиями, только что сделанными. На них он смотрел на свою жену таким же взглядом, каким мой дедушка смотрел на мою бабушку. Я еще не знал, что значит этот взгляд, но я его тогда запомнил.
Помню жгучее чувство стыда за страну, в которой родился. Одно из первых воспоминаний детства. Постоянный стыд внутри и постоянное бесстыдство снаружи. От этой реальности я убегал, прятался в свое королевство, потом в империю, в которой не было коммунистической партии, борьбы за мир, где были капитализм, акционерные общества, банки и римское право. Где была свобода. Я видел фото, на котором Сахаров сидит во время исполнения ненавистного мне гимна, когда все вокруг стояли и косились на него. Я чувствовал в этот момент, что ему так же стыдно, как и мне, что он не может иначе. И я тоже не мог. Потом видел в телевизоре его выступление под свист и вой депутатов. Он продолжал говорить тихим голосом, будто бы не было всей этой злобы вокруг. Я тогда понял, что остаться в одиночестве — это не страшно, если ты свободен.
Мне было уже десять с половиной лет, когда наступил тот холодный декабрьский день. В этом возрасте ребенок, наверное, уже начинает понимать, что значит, когда уходит кто-то близкий. Это была моя первая осознанная потеря родного человека. Потом будет много других потерь, но Сахаров был первой из них. Он научил мое детское ледяное сердце плакать в тишине.
Через некоторое время у мамы появилась на полке небольшая книга с черной обложкой. Очень важная и серьезная книга. На ней было написано «Тревога и надежда». Мне казалась, что она очень страшная. А как иначе? Веселая книга не может быть черного цвета. Я преодолевал страх, периодически открывал ее, пытался читать, но там было много непонятного. Не было никаких формул и цифр, не было схем и графиков. Только буквы. Социализм, ядерное разоружение, права человека… все это было так бесконечно далеко от того, что по-настоящему интересно и о чем по моим представлениям должен был писать ученый. Но там где-то в конце был проект конституции. Я уже начал интересоваться законами, сочинял собственные и думал, что если их все начнут соблюдать, наступит новая жизнь. Но у Сахарова в проекте не было написано «коммунистическая идеология запрещается» или что-то в этом духе. Я быстро разочаровался и потом долго не открывал книгу снова. Уже не из-за страха.
На втором или третьем курсе лекции раз в неделю проходили у нас на проспекте академика Сахарова. Я был как-то по-особенному горд за то, что такое название носит улица в моих родных московских местах. В эти дни даже старался особо не прогуливать. Уже действовала несколько лет новая конституция, не им написанная. Тогда казалось, что многое будет так, как он мечтал и надеялся, пусть даже не все и не сразу. А потом настали другие времена. Центр его имени — иностранный агент, уличная выставка — под запретом. Горький вернулся.
Когда я ходил на катехизацию в кафедральный собор на Малой Грузинской к сестре Дануте, на одном из занятий разбирался вопрос о том, попадут ли в рай люди, которые не верят в Бога. Я тогда сильно переживал почему-то именно за Андрея Дмитриевича, ведь он был, по его собственным словам, атеистом. Мне казалось, что это неправильно, это его какая-то фатальная ошибка. Сестра улыбнулась и сказала, что в ад не попадет никто, кто туда не хочет попасть. Тогда в моей душе настал мир. Слова литургического гимна et in terra pax hominibus bonae voluntatis — это о нем, вспоминаю каждый раз, когда их слышу или пою. В этом есть свет и надежда, которые не угасают, разгоняют тьму, превозмогают тревогу.